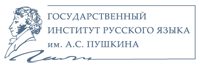«Только точность выражения делает истинным представляемый поэтом предмет, так что мы как будто видим пред собою этот предмет». В.Г. Белинский Отечественная литературная критика первой половины XIX века отличалась исключительно высокой требовательностью к лексической стороне языка «изящной» словесности. При этом далеко не всегда мерило оценок имело собственно языковые корни. Достаточно часто осно- ванием для того или иного мнения об употреблении слов и выражений становились экстралингвистические (внеязыковые) факторы, поскольку словарный состав языка теснейшим образом связан с множеством явлений материальной и общественной жизни. В этом отношении первостепенной считалась проблема адекватного понимания читателем заложенной в рецензируемом тексте информации о предметах и событиях объективного мира. Здесь одним из необходимейших качеств языка считалась точность, то есть соответствие слова, выбранного поэтом, предмету речи и выражаемым понятиям. Отсутствие лексической точности рассматривалось критикой как грубейшее нарушение, сама же точность языка ставилась художниками слова так высоко, что В.И. Жуковский в стихотворном послании к П.А. Вяземскому и В.Л. Пушкину писал даже о Музе точности – властительнице сло- га: «Так точность строгая писать повелевает, / И Муза точности закон принять должна» (В.А. Жуковский. «Вот прямо одолжили...», 1814) [1]. Н.В. Гоголь именно лексическую точность считал самым замечательным качеством поэзии Пушкина: «Какая точность во всяком слове!» [2. С. 205]. Особенно грубой погрешностью против точности считалась предметно-лексическая неточность, представляющая собой отступление от истинного положения вещей и связанная с недостаточной информиро- ванностью автора о тех или иных явлениях окружающей действительности. Ученые, занимающиеся психолингвистикой, называют этого рода погрешности «неадекватной референцией» [3]. Необходимо отметить, что в отношении такого рода погрешностей у языковедов существуют две точки зрения. Согласно одной из них, ошибки этого характера, тесно связанные с экстралингвистическими факторами, относятся к типу неязыковых [4. С. 163]. Согласно другому мнению, которое кажется более основательным, предметная точность выражается в речи, и потому нарушения, возможные в этом плане, являются культурно-речевыми [5. С. 129–130]. «Всестороннее знание пред- мета речи, – пишет Б.Н. Головин, – это важнейшее условие предметно точной речи» [Там же. С. 129]. Показательны в этом плане примеры, связанные с критической деятельностью и творчеством А.С. Пушкина – центральной фигуры литературной жизни первой половины XIX века. Так, сразу несколько замечаний относительно речевых ошибок, связанных с предметно-лексическими неточностями, Пушкин сделал в 20-е годы на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» К.Н. Батюшкова (1816–1817). В частности, строкам из элегии «Выздоровление» («Как ландыш под серпом убийственным жнеца / Склоняет голову и вянет, / Так я в болезни ждал безвременно конца, / И думал: Парки час настанет») была адресована такая пушкинская поправка: «Не под серпом, а под косою. Ландыш растет в лугах и рощах – не на пашнях засеянных» [6. С. 392]. Г.А. Гуков- ский в книге «Пушкин и русские романтики» справедливо расценивал этот случай как проявление ярко выраженного противоречия между «романтиками» (Батюшков) и «реалистами» (Пушкин) [7. С. 99–100]. Ведь если для Батюшкова и ландыш, и серп, и жнец – это условные эмоционально-поэтические символы жизненного расцвета и неумолимого конца, то для Пушкина ландыш – это еще и реальный цветок, растущий в определенных природных условиях, а серп – предназначенное для жатвы ручное сельскохозяйственное орудие. И, по убеждению Пушкина, автор не имеет права вводить читателя в заблуждение неточными сведениями. Двустишие из «Тибулловой элегии» («Ужасный Энкелад и Тифий преогромный / Питает жадных птиц утробою своей») сопровождалось следующей пометкой Пушкина: «Ошибка мифологическая и грамматическая» [6. С. 391]. Дело здесь, вероятно, в том, что, в соответствии с древнегреческой мифологией, вовсе не Тифий (Тифон) и Энкелад, а Прометей по приказанию Зевса «питал» своею печенью орла [8. С. 415]. Грамматическая же погрешность, о которой упомянул Пушкин, – это, по-видимому, ошибочное согласование сказуемого с двумя однородными подлежащими в единственном числе, а не во множественном: питает вместо питают. Необходимо подчеркнуть, что в данном случае имелась в виду не реально существующая предметная отнесенность слов, а фантастическая; причем информацию о ней можно было почерпнуть лишь из книжных источников. В элегии Батюшкова «Гезиод и Омир, соперники» Пушкин заметил еще одно подобное отступление от мифологической точности: к строфе «О, нежны дочери суровой Мнемозины» он отнес вопрос: «Зачем суровой?» [6. С. 397]. Очевидно, Батюшков здесь ошибочно приписал черту «суровости» греческой богине памяти, матери девяти муз Мнемос(з)ине, неправомерно отождествив ее с богиней справедливого возмездия Немес(з)идой [8. С. 329]. Подвергались подобной критике и произведения самого Пушкина. Например, в анонимной рецензии 1823 года, посвященной выходу в свет поэмы «Кавказский пленник», говорилось по поводу стиха «Под влажной буркой, в сакле дымной Вкушает путник мирный сон»: «Ему бы легче скинуть влажную бурку и осушиться» [9. С. 436]. Известно, однако, что Пушкин не согласился с этим замечанием. В письме к П.А. Вяземскому от 14 октября 1824 года он уточнял, что негативно воспринятое критикой выражение «под влажной буркой» вовсе не противоречит действительности: «Бурка не промокает и влажна только сверху, следственно можно спать под нею, когда нечем иным накрыться…» [Там же. С. 124]. Действительно, бурка (широкий плащ из войлока), уникальная по своим свойствам одежда народов Северного Кавказа, как пишут о ней этногра- фы, защищает человека от любых неблагоприятных погодных условий: от дождя, снега, холода, жары [10]. Иногда нарекания критиков вызывала неточность в употреблении редких и потому не всегда понятных носителям языка устаревших слов. Например, таких, как историзм праща. Предметную неточность, связанную с использованием этого слова, отметил в балладе П.А. Катенина «Ольга» (1816) Н.И. Гнедич. Относительно строфы «Мчатся всадник и девица, / Как стрела, как пращь, как птица» критик написал, что «пращи не летают. Пращь есть веревка или ремень, которые всегда остаются в руках человека, мечущего им камни» [11]. А.С. Грибоедов, по вопросу об «Ольге» оппонент Гнедича, оспоривший многие его оценки, на сей раз был вынужден согласиться с приведенным мнением, сославшись, при этом, однако, на аналогичное использование слова пращь В.А. Жуковским: «Наконец, … г. р[ецензент] дописался до замечания справедливого. Скажу только, что слово пращь в таком смысле, как оно принято в “Ольге”, находится также в одном месте у г. Жуковского: От стука палиц, свиста пращей Далече слышан гул дрожащий» [12. С. 45]. По данным толковых и энциклопедических словарей, пращь, пращъ или праща (ибо для этого существительного были характерны колебания в грамматическом роде и типе ударения) [13], – древнее метательное оружие, представляющее собой расширяющийся в средней части ремень, в который закладывался камень или свинцовый шарик; при метании пращу вращали над головой и затем, выпуская один конец, давали полет камню [14. С. 498]. Вместе с тем энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона определяет пращу как «округленный, овальный или несколько заостренный камень, иногда заменяемый свинцом, представляющий собой самое первобытное оружие». Очевидно, позже простое бросание камня было заменено особым приспособлением, которое в связи с переносом значения по смежности также получило название праща. Этот давнего происхождения метонимический перенос отразился в художественно-литературных текстах: словосочетание свист пращи, раскритикованное Грибоедовым у Жуковского, встречалось и у других авторов. Например, у А.С. Хомякова или, значительно позже, у В.Я. Брюсова: «И палиц треск, и свист ужасный пращей, / И стали гром, о сталь разящей» (Х
2015. № 1, 9-11
Аннотация:
В статье рассматривается проблема классификации безлично-генитивных предложений на материале «Мертвых душ». Приведенные синтаксические единицы в семантическом аспекте обладают одновременно значением безличности и отрицания.
Ключевые слова: